По воскресеньям во второй половине дня в Заксенхаузене заключенным иногда разрешали передохнуть. Так было и в тот сентябрьский день 1940 года, но вдобавок им было объявлено, что они могут написать и отослать письма домой. Писать надо было по-немецки, никакой лишней болтовни, жизнь прекрасна и т.п. И еще одно условие – за почтовые марки надо было заплатить.
У польского заключенного Александра Кулисевича денег не было – все отобрали при аресте.
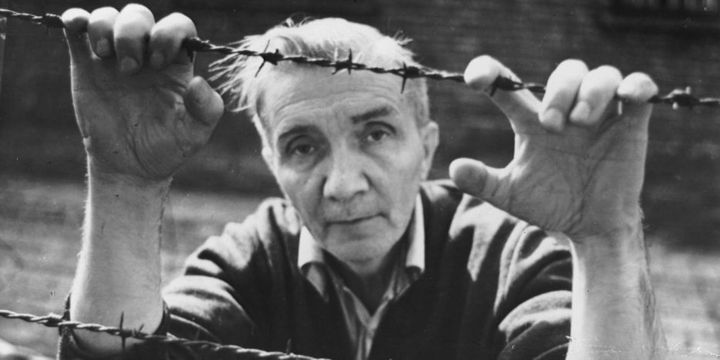
Подумав, он решил попросить помощи у священников-чехов – не откажутся же служители Божьи, люди наверняка милосердные, поддержать молодого человека, уже многие месяцы разлученного с его семьей. Он отыскал барак, в котором они жили, подошел к первому встреченному священнику и заговорил с ним по-чешски. Для начала он прочитал ему стихи чешских поэтов – надо же произвести благоприятное впечатление, – а потом изложил свою просьбу: только шесть пфеннигов, чтобы сообщить домашним, что он жив. Священник согласился дать ему деньги, но только в обмен на маргарин из дневного рациона. Расстаться даже с кусочком еды было для Алекса просто опасно – кто знает, какие физические нагрузки выпадут на его долю назавтра. Но он согласился.
Чтобы успокоиться от пережитого унижения, он стал насвистывать «Чардаш» Монти и даже не заметил, как к нему приблизился другой заключенный – невысокий, лысый, круглолицый и с подбитым глазом, гораздо старше Алекса. На его полосатой робе были нашиты два пересекавшихся треугольника, короче говоря, Звезда Давида. Он внимательно вслушивался в мелодию, и когда Алекс, удивленный, остановился, то попросил его шепотом: «Пожалуйста, продолжайте, уважаемый пан».
Короче, они разговорились, и Алекс поделился с Мозесом Розенбергом – так звали его нового знакомца – своей обидой. И тот вдруг подхватил его за руку и повел к бараку священников. Когда Алекс указал на того, кто отнял его пайку, Мозес подошел к нему и стал требовать, чтобы он вернул ее Алексу. В ответ священник обозвал Мозеса грязным евреем, ударил в лицо, его поддержали сотоварищи, и в итоге обоим – и Мозесу, и Алексу – пришлось уносить ноги. «По дороге к своему бараку, – пишет в книге “Пой, память!” американский журналист Макана Эйр (Sing, Memory: The Remarkable Story of the Man Who Saved the Music of Nazi Camps. By Makana Eyre / W.W. Norton & Company, New York), – Алекс не переставал думать об этом еврее, который вступился за него, хотя до этого они друг друга не знали.

Похоже, Мозес был человеком, с которым хорошо было бы подружиться, смельчаком, который, несмотря на свой возраст и низкий статус в Заксенхаузене, не боялся наглецов и не терпел издевательств».
***
Когда знакомый польский лагерник рассказал Алексу о тайном еврейском хоре в Заксенхаузене, тот поверил не сразу. Любая запрещенная деятельность каралась в нём смертью. Но отчего бы не убедиться самому? Извещенный о предстоящей репетиции, Алекс и его спутник в назначенное время пробрались в барак, где жили евреи, – опять же СС не разрешало ходить туда неевреям, но любопытство превозмогло страх.
Там было 20-25 человек, как старые, так и молодые, все измождённые от голода. Когда они начали петь, Алекс был поражен тем, как красиво это было. Но еще более неожиданным оказалось то, что хором дирижировал Мозес, тот самый, который за несколько дней до этого пытался вернуть Алексу маргарин. Именно он какой-то магией и изяществом рук извлекал из хористов их прекрасное пение. Когда Мозес заметил Алекса, то улыбнулся ему и продолжил дирижировать. Синяк под его глазом еще не прошел.
Что же это был за человек? Самыми информированными в лагере были немецкие заключенные, коммунисты, попавшие туда еще до войны. Алекс обратился к ним и узнал, что артистическим именем Мозеса Розенберга было Розбери Д’Аргуто. Родился он в Польше, но много лет жил в Германии и был очень известным дирижером хора в Берлине.

***
В результате несчастного случая Алекс в детстве заикался. Вылечил его находившийся проездом в Штеттине (после 1945 года – Щецин) гипнотизер по имени Руб. «Люди сначала думают, а потом решают, что они хотят сказать, – учил он Алекса. – Но ты должен сначала написать в уме черными буквами на белом фоне то, что хочешь сказать. А потом сказать вслух то, что ты написал». Так Алекс и стал делать. В школе, например, когда в классе учили наизусть стихи или прозу из польской литературы, он сначала представлял их себе написанными, а потом произносил. Вскоре он перестал заикаться, но продолжал использовать методику Руба для развития памяти. Когда он воображал в уме слово, предложение или параграф, то все это у него сохранялось, трансформировалось в паутину воспоминаний, своего рода дворец, в каждой комнате которого он складировал усвоенные образы, чтобы потом вернуться к ним. Потом, в концлагере, уникальная память стала его своеобразной визитной карточкой.
Главным детским увлечением Алекса была музыка. Уже в шесть лет отец, уступив его слезным просьбам, купил ему скрипку. Макана Эйр пишет: «Музыка была для него огромным удовольствием, но гаммы и упражнения надоедали ему. Вместо этого он предпочитал уходить в лес со своим котенком и там слушать щебетание птиц… В птичьих песнях ему слышались призыв и отклик, как будто те пели в ансамбле… Ничто из этого не было похоже на вальсы и мазурки, которые он разучивал во время частных уроков». Но что он подхватывал с лету – это окружавшую его музыку разных национальных культур: орган в немецких церквях Штеттина, пастушьи песни в чешских селах, цыганские напевы. Однажды он даже умолил отца попросить цыган разрешить ему сыграть с ними, и они согласились – как счастлив он был тогда…
Когда Алекс повзрослел, то поступил в Ягеллонский университет в Кракове. Это был 1936 год, и польский национализм был в самом разгаре. Его идеологи по традиции винили во всех бедах евреев, против них на разных уровнях принимались дискриминационные меры, чего не избежал и университет. Трескучие фразы о величии страны и необходимости всем полякам как один подняться на ее защиту привлекли и Алекса, он даже вступил в одну из студенческих патриотических организаций, правда, насилие ему претило и в нападениях на еврейских соучеников он участия не принимал. Все же антисемитские предубеждения не обошли его стороной. С ними он в мае 1940 года и попал в Заксенхаузен после ареста семью месяцами раньше за подпольные публикации против нового режима.
***
В политическом плане Розбери Д’Аргуто был классическим левым. Моше Розенберг вырос в традиционной еврейской семье в польском городке Млава, и его отец, торговец зерном, прочил своего умнющего сына в раввины. Но тот рано пристрастился к двум вещам – музыке и социализму. В 17 лет русская полиция едва не сцапала его, когда он вместе в другими юными радикалами готовился ограбить местный банк. Моше не просто удалось улизнуть, он сбежал в Австрию, потом в Италию, изучал музыку и ларингологию, а в феврале 1909 года официально зарегистрировался как житель Берлина. Он продолжал совершенствоваться как музыкант, особенно в постановке голоса у певцов, и опубликовал на эту тему несколько научных опусов, сочинял музыку сам, давал частные уроки и тем жил. Не оставлял, однако, и политическую деятельность, склоняясь к анархизму, и закономерно в июле 1921 года угодил в полицию. На первый раз ему помогли выкарабкаться, и он несколько остепенился, тем более что ему представилась возможность стать руководителем хора в рабочем районе Берлина – Нойкёльне. И вот как он отбирал кандидатов: «К удивлению многих, он никогда не просил их спеть. Вместо этого он с помощью серебряной палочки с шариком на конце обследовал заднюю часть рта или прощупывал предплечье и промежуток от шеи до плечевого сустава. Один за другим певцы представали перед своим дирижером, пока он терпеливо проверял их и определял их вокальный диапазон: сопрано, меццо-сопрано и контральто для женщин и тенор, баритон и бас для мужчин».
«В хоре Розбери нашел целую вселенную, – пишет Макана Эйр, – это было место, в котором его профессиональное музыкальное образование и его вера в равенство, справедливость и доступ к культуре для всех зацвели одним цветом. Никаких ограничений для зачисления в хор у Розбери не было. Кандидат не обязан был хорошо петь, читать ноты, понимать теорию музыки… Главным было, чтобы он или она получали удовольствие от пения и обещали усердно работать». «Если человек может говорить и слышать, – говорил Розбери, – он может и петь». С его приходом «Хор мужчин и женщин Нойкёльна» получил название «Певческое общество Розбери Д’Аргуто».
Выступлений не было целый год – Розбери тщательно подводил своих хористов к нужному ему уровню. А вот начиная с 1924 года их концерты стали пользоваться все нарастающим успехом, им открылись лучшие залы Берлина. В хоре пели уже 200 человек, к ним добавился и детский хор, в котором было 100 участников. Появились и танцевальная группа, школа пения и группа поддержки для потерявших работу. И так здорово они исполняли, что критики самых престижных газет ездили на юго-запад Берлина, чтобы слушать их, и потом писали хвалебные рецензии. Так «Певческое общество» росло и развивалось, пока к власти в Германии не пришли национал-социалисты. Розбери был уволен, еще несколько лет пробавлялся частными уроками, в конце концов был арестован как гражданин враждебного государства – Германия тогда напала на Польшу – и в сентябре 1939 года оказался в Заксенхаузене.
***
Осенью 1940 года Розбери заключил, что его хор готов к выступлению перед слушателями. Он переговорил с осведомленными немецкими политзаключенными, которые посоветовали ему, в какое время и когда именно безопаснее всего провести концерт. Информация о нем передавалась шепотом и только доверенным людям, главным образом евреям. В назначенный день часть выбранного Розбери барака была освобождена от нар и матрасов с расчетом, чтобы места хватило человек на двести.
То, что происходило дальше, выглядело как фантасмагория. В немецком концлагере пел еврейский хор! В любой момент в барак могли ворваться эсэсовцы, и в этом случае всем собравшимся – и хористам, и слушателям – грозили жестокие побои, если не смерть. Взгляды всех были обращены на Розбери. Его лицо сияло. Глаза сверкали страстью. Мановениями рук он словно гипнотизировал певцов, придавая их голосам единое звучание. Когда представление закончилось, людей охватило чувство, что сбылось невероятное. На смену мыслям о том, как выжить еще один день, пришли энергия и гордость. Узники как бы сказали нацистам: «Вы лишили нас свободы и безопасной жизни, но отнять все вы не смогли. С нами наша музыка».
Макана Эйр пишет: «В Розбери Алекс нашел музыкального ментора, которого давно искал. Он почитал за высокую честь, что человек такого уровня доверился ему. Розбери вел себя вежливо и с кротостью, он никогда не хвастался своим профессорством, никогда не пытался вызвать у других жалость к себе, никогда не сетовал на несправедливость, жертвой которой стал… Даже когда в лагере стало известно, что ранее у него водились деньги, он не выказывал ни малейшего снобизма в отличие от других заключенных, которые перед войной были богатыми. По правде говоря, привилегии и излишества противоречили всему, во что он верил, и той работе, которой он посвятил свою жизнь».
Похоже, что Розбери был также первым евреем, которого Алекс узнал близко. Конечно, он раньше встречался с евреями. В детстве он не раз проводил лето в деревне у деда и там играл в футбол с еврейскими ребятами. И в школе с ним рядом учились евреи, и, как уже было сказано, в университете. Его привлекали еврейские мелодии и пение канторов. Но в его отношении к евреям все равно сохранялась подозрительность, их мир был для него странен и чужд. Дружба с Розбери все это изменила. Розбери научил его множеству еврейских песен, рассказывал ему о своей жизни. Теперь еврейская музыка восхищала его, он начал воспринимать как её скорбь, так и её веселье.
***
Зимой Алекса перевели из так называемого «малого лагеря» в Заксенхаузене в «большой». С одной стороны, это стало для него облегчением от изматывающей работы по лепке кирпичей, особенно тяжелой при сильном холоде, но с другой, теперь он не мог видеться с Розбери. Правда, к своему удивлению, Алекс обнаружил, что немецким заключенным не возбранялось охраной петь народные песни. Возможно, считалось, что это помогает сохранять спокойствие. Алекс нашел энтузиастов пения и среди польских и чешских узников, и в 1941 году у них тоже появились хоры. Однако эсэсовцы воспользовались этим увлечением для издевательств – они принуждали заключенных петь те же народные песни и военные марши, причем любая ошибка наказывалась избиением провинившихся и того хуже – продлением пребывания на плацу вплоть до потери сознания.
И все-таки Алексу удалось повидать Розбери. Связь удалось установить снова с помощью немецких коммунистов. Как радовался Алекс, когда увидел своего друга живым, хотя и сильно исхудавшим, и ослабевшим! А главное – хор продолжал существовать. Более того, его репертуар расширился. Среди песен на идиш и немецкой классики появилась, в частности, баллада Гёте на стихи Шуберта «Фульский король». Почему Розбери решил ее репетировать? Вероятно, потому, что для него существовали две Германии – одна, представленная Гёте, Бетховеном, гимнами левых, и другая – принадлежавшая фашистам и их прихвостням, тем, которые замуровали его в Заксенхаузене. Исполнением нового произведения Розбери, возможно, выражал свою веру в то, что после войны любимая им ранее Германия восстанет из пепла.
***
Летом 1943 года по лагерю поползли слухи. При встрече Розбери объяснил Алексу, что в Европе с евреями творится нечто страшное. Новоприбывшие лагерники рассказывали, что тех загоняют в поезда и увозят в неизвестном направлении. Жуткие преступления совершаются в Варшавском гетто. И более всего пугали Розбери рассказы о том, что в нацистских лагерях на территории Польши немцы осуществляют массовые убийства евреев, в том числе отравляющими газами. Английское радио, которое кое-кто из лагерников тайком слушал, обо всем этом молчало, но Розбери слухам верил. И каким же был его ответ? Я сочиняю новую композицию, сказал он Алексу. Название еще не придумал, но она будет на немецком и основана на еврейской песне «Десять братьев». Эту песню Алекс хорошо знал. Он помнил ее с детства, когда слушал погребальные песнопения, доносившиеся из окон синагоги в Штеттине. По мере того, как сочинение Розбери продвигалось, он напевал готовые куски Алексу. Тот чувствовал, что его друг видит эту песню своим наследием всем уцелевшим. И однажды Розбери сказал ему: «Ты не еврей. Если ты останешься в живых, то мою песню горечи и мщения, мою посмертную песню должен будешь петь ты. Ты должен будешь петь ее по всему миру, ибо иначе я прокляну тебя, и ты не сможешь умереть спокойно».
Алекс дал Розбери клятву, что исполнит его завет. Но тут же подумал: а как быть с музыкой, сочиненной другими заключенными, как быть с их стихами? До сих пор он запоминал только свои произведения, а ведь вокруг него разные люди каждодневно творили воспоминания о Заксенхаузене. Вероятно, Алекс со своей уникальной памятью мог бы помочь сберечь также их музыку и поэзию…
Наступил октябрь 1943 года. Жизнь в лагере резко ухудшилась. Цветы, ранее украшавшие его, исчезли. Причина была простой – их съели заключенные. Поезда безостановочно привозили новые пополнения, бараки были забиты, болезни свирепствовали. Все же Заксенхаузен не был лагерем смерти, и его заключенные сохраняли крошечный шанс выжить. Самым страшным была депортация невесть куда. А тем временем Розбери закончил работу над своей песней и приступил к репетициям. Как мог, он старался соблюсти секретность, хотя это и стало сложнее – слишком много новичков скопилось сейчас в лагере.
Репетиция «Песни о смерти евреев», которую довелось услышать Алексу, произвела на него шокирующее впечатление. Это была даже не песня, а вопль отчаяния, скорбное поминание всех, кто погиб. Розбери казался Алексу большой птицей, воздевающей свои крылья над поющими. Но… на полуслове пение оборвалось – во внезапно распахнувшуюся дверь ворвались эсэсовцы. Алексу удалось выбраться через заднее окно и скрыться в ночном мраке, а из барака к нему рвались крики избиваемых. И это было в последний раз, когда Александр Кулисевич видел Розбери Д’Аргуто.
***
Он начал исполнять «Песнь о смерти евреев» в бараках большого Заксенхаузена почти сразу после того, как до него долетела весть, что Розбери был депортирован в Дахау. В начале 1943 года ему удалось раздобыть гитару. «Он вошел в состояние транса, – пишет Макана Эйр, – когда он не чувствовал укусов мороза, когда не слышал шагов проходящих мимо него охранников. Он хотел, чтобы каждая композиция, каждое стихотворение были бы свидетельством события, или мысли, или чувства, как бы документом происходившего в концентрационном лагере. Он понимал, что после войны выжившие по всей Европе – и он сам в том числе – восстановят времена, проведенные за колючей проволокой. Однако песня и стихотворение, сочиненные узником через несколько минут или часов после увиденного им повешения или избиения, были бы куда правдивее, чем что-либо вспомненное, прочитанное и рассказанное много лет позднее».
Однажды во время уборки лагеря он познакомился с молодым и высоким польским евреем, которого звали Арон. Переговариваться они могли только украдкой, когда рядом не было охранников. Арон рассказал Алексу, что ранее он был в лагере в Польше. Там эсэсовец убил его жену выстрелом в висок, а маленькому сыну разбил голову о стену. Сам Арон остался в живых только потому, что он был крепким и мускулистым, и немец решил, что он будет полезен для тяжелой работы. Арон умолил другого охранника позволить ему постоять около тела сына в здании, куда свозили трупы для крематория, и там у него сложилась прощальная колыбельная. Несколько дней он диктовал ее Алексу. «Это моя единственная месть», – сказал он ему. На последней строфе его голос сменился криком. «Тихо, ты что, нас заметят! – остерег его Алекс. – И что это за колыбельная, если ты кричишь?» И тот ответил: «Это я умолял моего сына проснуться».
На обувной фабрике – было и такое в Заксенхаузене – Алекс встретил русского юношу Алешу. Про него говорили, что он красиво поет. Алекс и сам убедился в этом и уже запомнил песню, которую тот пел на мелодию «Ехал казак за Дунай». А потом Алеша передал ему слова еще одной песни, которую назвал «Соня», – это уже на мотив, услышанный от самого Алекса. Она была о девушке, возлюбленного которой «уносит ввысь черный, черный дым». И последней песней, сочиненной Алешей, была «Гекатомба» (древнегреческое жертвоприношение из ста быков). Откуда, дивился Алекс, мог деревенский парень знать это слово? Он ведь и сам слышал его только от отца, который был преподавателем античной истории. Но Алеша при этом добавил к записанному Алексом названию еще и цифры 1941 – тот самый год, когда эсэсовцы убили в Заксенхаузене около десяти тысяч советских военнопленных.
***
Макана Эйр рассказывает: «После депортации Розбери многие заключённые стали искать Алекса и просили его запомнить стихотворение или несколько строф для песни – оставить хоть что-нибудь о себе… Люди всех национальностей, возрастов и происхождения сочиняли стихи и песни. Казалось, они хотели, чтобы их произведения пережили лагерь, даже если это и не удастся им самим. Чехи, немцы, поляки, французы подходили к Алексу, иногда в барак после работы, иногда снаружи, скромно прося его включить сочиненное ими в анналы его памяти. Алекс, интересовались они, а у тебя есть место в твоем архиве? Тогда он закрывал глаза и отвечал: диктуйте».
***
Алекс лежал в больнице в Кракове и бредил. Позади остались многодневный марш смерти из концлагеря в апреле-мае 1945 года, бегство охраны, попрошайничество в немецких городках, затем возвращение в Польшу – когда пешком, когда на велосипеде, когда на попутках. Но в Кракове он заболел, диагноз – туберкулез. Врачи сказали ему, что он может умереть. И тогда он начал бормотать нечто невнятное. Не чувствовал ли он, что у него пропадает последний шанс исполнить обещание, данное Розбери? Врачи решили, что у него агония, но одна медсестра вслушалась, разобрала слова и поняла, что он диктует. Она принесла пишущую машинку и день за днем стала печатать. Прошло три недели. Когда к нему вернулось сознание, она сказала ему, что напечатала более 700 страниц. Это был почти весь его заксенхаузенский «архив». И Алекс начал выздоравливать.
***
Потянулись годы мирной жизни. Но спокойными они для Алекса не были. Он снова пошел в университет, но обеспеченное будущее юриста его не влекло. Стал работать, женился, появился ребенок, однако новые заботы его только раздражали. Он все больше и больше уходил в прошлое. В столовках, куда бывшие лагерники приходили поесть за полцены, он расспрашивал их о том, что они пережили, но от него обычно отмахивались. Брось ты приставать нам со своими историями об ужасах концлагерей, говорили ему. Выжил – живи.
Он решил уехать в Чехословакию. Там у него был сотоварищ по Заксенхаузену Антонин Запотоцкий, ныне влиятельный политик. Поначалу все шло хорошо. Непыльная журналистская работа, разные льготы, большая квартира в красивом районе. Да и жизнь в Праге была куда интереснее, да и сытнее, чем в Польше. На Рождество он посылал домой в Краков апельсины, сам посещал рестораны, банкеты, приемы. И все бы ничего, но память о Заксенхаузене не отпускала его. Почему он не делает того, в чем поклялся Розбери? Короче говоря, удача была только на поверхности. Правда, в начале 1948 года ему посчастливилось – одна студия в Праге пригласила его записать что-нибудь о лагере. И тогда он спел «Песнь о смерти евреев»:
«Было нас десять братьев,
Все торговали вином.
И вот один из нас умер.
Девять осталось нас.
Ой…ой… Ой…ой…»
***
Неприятности стали подстерегать его с неожиданной стороны. Память о войне начала понемногу стираться, а с ней и влияние тех, кто протежировал Алексу. К власти прорывались новые люди, и они относились к нему с подозрением – все же иностранец, да еще и неуправляемый. Сыграло свою роль и то, что он отклонил предложение вступить в партию. Ему не нравился растущий тоталитаризм в стране, союз с Россией тоже был для него неприемлем – разве не несла она ответственность за пережитое его родиной до и во время войны? Короче говоря, в 1954 году его заставили уехать из Праги.
А в Кракове все пришлось начинать заново. Надо было кормить семью – а там уже был второй ребенок, – и Алекс стал подрабатывать – работой это нельзя было назвать – странствующим фотографом, снимая свадьбы в окрестных деревнях. Но выручил случай – в одной из своих поездок Алекс встретил знакомого со связями, и тот пристроил его в государственную контору, снабжавшую региональные власти информацией для внутреннего пользования. Это опять же были разъезды по всей Польше, но появился стабильный доход. И все-таки лагерная травма только усугублялась, слишком глубоки были его раны, чтобы время их излечило. Ссоры с женой становились все ожесточеннее, он обвинял ее в том. что она его не понимает, говорил, что пытки, издевательства, вонь трупов по-прежнему преследуют его. Что тут можно добавить? Только то, что Алекс в конце концов покинул семью, чтобы целиком отдать себя тому делу, в котором видел смысл своей жизни. И здесь напрашивается известная метафора: засохший дуб вдруг зазеленел.
***
В 1950-х годах, рассказывает Макана Эйр, поляки, пережившие немецкие концлагеря и лагеря смерти, стали объединяться в ассоциации, чтобы помогать друг другу, обмениваться воспоминаниями, разыскивать пропавших близких и так далее. Во время своих поездок Алекс слышал многие кошмарные рассказы, но вместе с ними и истории о том, как заключенные, такие как он и Розбери, искали в культуре душевные силы для выживания. «В Освенциме, Бухенвальде, Терезиенштадте да и почти в каждом нацистском лагере узники собирались, чтобы разделить увлечение музыкой, поэзией, литературой. Некоторые сочиняли стихи на довоенные мелодии, подобно тому, как это делал Алекс. Другие сами сочиняли музыку – от обычных песен до подражаний классике, и многие из них обладали несомненными художественными достоинствами».
Алекс начал каталогизировать всю информацию, которую он находил о нацистских лагерях и о тех, кто их пережил. Он вырезал статьи из газет и распределял их по темам. В особенности его интересовало все, связанное с лагерной культурой. Всем людям, имевшим к ней отношение, он посылал письма с просьбой о информации. Вскоре у него появилась своего рода база данных на тех, кто был частью этого уникального феномена. И в первый раз за много лет Алекс почувствовал потребность выступать перед публикой и исполнять свой лагерный репертуар.
В феврале 1963 года он получил письмо из ГДР. Его автором была музыковед Инге Ломмель, которая работала в Германской академии искусств. Её родители погибли в Освенциме, а сама она осталась в живых только потому, что шестью годами ранее они отправили её и её сестру в Англию по линии Kindertransport, программы по вывозу из рейха еврейских детей. Теперь Инге Ломмель занималась собиранием творчества узников нацистских лагерей, и ее Академия готовила обширную публикацию на эту тему. Не мог бы товарищ Кулисевич поддержать … и прочая, и прочая?
Завязалась переписка, и вскоре поддержка пошла уже в обратном направлении – Инге неоднократно выражала благодарность Алексу за его материалы, говорила о большой ценности его работы, и это стимулировало его продолжать разыскания. Она попросила его записать подборку лагерных песен, что он с готовностью сделал на варшавском радио. Когда копия записи пришла в (Восточный) Берлин, ответ не заставил себя ждать. «Мы были поражены, когда услышали, какой вы высококлассный певец. Ваши песни исполнены в абсолютно достоверной манере, со всей естественной горечью». Алекс был рад этой похвале. Важным было и то, что она исходила из официального ведомства ГДР и могла удостоверить его возросший международный статус в глазах польских властей.
А далее последовал, можно сказать, еще один шаг к славе. В 1965 году Инге переслала запись Алекса видному итальянскому композитору и собирателю музыкального фольклора Серджио Либеровичи, который пригласил его выступить в Болонье на международном фестивале «Музыка Сопротивления». Алекс вышел на сцену в одежде заключенного из Заксенхаузена. Хотя аудитория вряд ли понимала польский и немецкий языки, но она слушала, словно загипнотизированная. Один итальянский журналист охарактеризовал выступление Алекса как «нечто зловещее: медленный танец смерти и боли» – это высказывание, вероятно, относится к его танцевальным импровизациям при исполнении песни «Мусульманин – подбиратель окурков» (мусульманами в лагере называли доходяг, еле волочащих ноги, согнувшихся едва ли не до земли). Успех в Болонье привел к турне еще по 17 итальянским городам. Потом он выступал еще в Англии, ФРГ, США, Франции…


Впоследствии Алекс говорил: «Каждый раз, когда я пою, то возвращаюсь обратно в треклятый лагерь. И вновь я должен пережить его, не просто воссоздать в звуках. И всё должно выйти наружу: ужасы, горечь, сарказм, отчаяние, язвительный подтекст. Я плачу долг памяти миллионам убитым, голоса которых задохнулись в лагерях. Мои не выжившие собратья всегда со мной. Когда я пою, то представляю себе, что они здесь, у меня за спиной. Вот почему мне чуждо чувство страха сцены».
И все же, несмотря на признание публики, депрессия – «мои не выжившие собратья» – не оставляла его. В письме одному другу он исповедовался: «Приятно слышать, что тебе как-то удалось построить рациональную жизнь. Тебе хотя бы это удалось – а вот моя сломана. Это так ужасно. Я как пришибленный, поникший. Я стал затворником, и временами не чувствую даже, что я живу, хотя на людях из меня брызжет пропаганда и инициатива».
Сказывалось и то, что тогдашние культурные элиты Польши так и не приняли Алекса. Историки, музыковеды, антропологи, журналисты чурались лагерной музыки. Если они и реагировали на неё, то только критически. Будь-то на польском, русском, идиш, других языках – все подобные произведения осуждались как популистские или попросту вульгарные. И с такой неприязнью встречались не только песни самого Алекса, но и всё, что ему удавалось разыскать.
В 1971 году его вторая жена Бася спросила у него, неужели он и дальше будет столь же отстраненным и далеким от нее и их сына. Она-то, в отличие от первой, понимала тяжесть его травмы. Но понимала и то, что их десятилетний брак дальше продолжаться не может. Он и сам сказал ей, что лучше ему не станет, будет только хуже.
***
В конце 1970-х годов Алекс ушел на пенсию. Она была скромной, но базовые его нужды покрывала. Он жил в одной комнате в бывшей квартире покойных родителей Баси. Все его имущество составляли письменный стол с довоенной немецкой пишущей машинкой, односпальная кровать, настольная лампа и угольная печка. Остальное место в комнате занимал его архив, собранный за 25 лет. Сотни досье стояли на полках высоченных, достававших почти до потолка шкафов. Им были собраны около 820 песен из нацистских лагерей в Европе, около двух тысяч произведений лагерной поэзии, тысячи микрофильмов, листовок, карт, отчетов, радиотелевизионных передач, около сотни лагерных рисунков и картин, столько же записей лагерной музыки. Его переписка с учеными и свидетельства узников лагерей занимали около двадцати тысяч страниц. И отдельно следует упомянуть книгу, которую он писал о музыке и поэзии лагерей и так и не дописал, – ее рукопись насчитывала три тысячи страниц.
Конечно, его беспокоило, что станет с архивом, когда он умрет. Он связывался с библиотекой Ягеллонского университета, музеем Освенцима, Польской академией наук, Национальной библиотекой в Варшаве. Последняя даже прислала своих сотрудников ознакомиться с архивом. Ничего, однако, не вышло.
В конце жизни Алекс долго и тяжело болел. В феврале 1982 года его госпитализировали. На улицах Кракова стояли танки. Это правитель Польши генерал Ярузельский ввел в стране военное положение. А у Алекса среди всего прочего диагностировали пневмонию, но в госпитале медикаментов для её лечения не было. В нормальное время он бы с легкостью получил их от своих друзей в ФРГ, но все связи с Западом тогда были оборваны. Александр Кулисевич умер во сне 12 марта 1982 года на 64-м году жизни.
***
В 1992 году коллекция Кулисевича была приобретена Мемориальным музеем Холокоста США.

